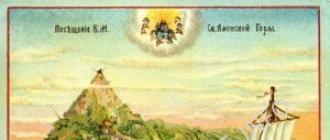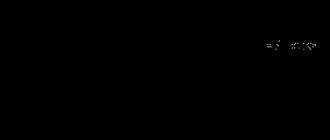1 Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам!» - сказал ему Бог. «Да!» - отозвался Авраам.
2 И Бог сказал: «Возьми своего сына - единственного, любимого - Исаака, и иди с ним в землю Мориа". Там, на горе, которую Я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения».
3 Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь - к тому месту, о котором говорил ему Бог.
4 На третий день пути посмотрел Авраам - и увидел вдали это место.
5 «Побудьте здесь, постерегите осла, - сказал он слугам. - А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам».
6 Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше - вдвоем с Исааком.
7 Исаак окликнул Авраама: «Отец!» - «Да, сынок?» - отозвался Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения?» -
8 «Сынок, - сказал ему Авраам, - Бог видит, где ягненок для всесожжения!» И они шли дальше, вдвоем.
9 Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник,
10 достал нож и занес над сыном.
11 И тогда воззвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» - «Да!» - отозвался тот.
12 «Не поднимай на него руки, - сказал ангел, - ничего ему не делай! Теперь Я знаю, что ты боишься Бога - ты не пожалел отдать Мне своего единственного сына!»
13 И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына.
14 Место, где все это было, Авраам назвал Яхве"–Ирэ". (Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно».)
15 И вновь ангел Господень воззвал к Аврааму с неба:
16 «Самим Собою клянусь, - говорит Господь: за то, что ты это сделал - не пожалел отдать единственного сына -
17 Я тебя благословлю! Я дарую тебе потомков, числом - как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми вражеские врата!
18 Благословеньем будут дети твои для всех народов земли - за то, что ты был послушен Мне».
19 Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ними в Беэр–Шеву - и жил в Беэр–Шеве.
20 Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Милька", жена его брата Нахора, родила сыновей:
21 У"ца (это первенец), Бу"за, Кемуэ"ла (это отец Ара"ма),
22 Ке"седа, Хазо", Пилда"ша, Идла"фа и Бетуэ"ла.
23 У Бетуэла родилась дочь Реве"кка. Это восемь сыновей, которых Милька родила Авраамову брату Нахору.
24 Кроме того, наложница Нахора по имени Реума" родила ему Те"ваха, Га"хама, Та"хаша и Мааху".
And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen.
Комментарии:
Комментарий к книге
Комментарий к разделу
22 We have here,
- The strange command which God gave to Abraham, Gen 22:1-2 .
- Abraham"s strange obedience to this command, Gen 22:3-10 .
- The strange issue of this trial.
- The sacrificing of Isaac was countermanded, Gen 22:11-12 .
- Another sacrifice was provided, Gen 22:13-14 .
- The covenant was renewed with Abraham hereupon, Gen 22:15-19 .
- An account of some of Abraham"s relations, Gen 22:20-24 .
22:14 And Abraham called the place Jehovah - jireh - The Lord will provide. Probably alluding to what he had said, Gen 22:8 .God will provide himself a lamb - This was purely the Lord"s doing: let it be recorded for the generations to come; that the Lord will see; he will always have his eyes upon his people in their straits, that he may come in with seasonable succour in the critical juncture. And that he will be seen, be seen in the mount, in he greatest perplexities of his people; he will not only manifest but magnify his wisdom, power and goodness in their deliverance. Where God sees and provides, he should be seen and praised. And perhaps it may refer to God manifest in the flesh.
Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу
В кн. Бытия говорится о творении вселенной и рода человеческого Богом Создателем и Промыслителем и о начале осуществления его спасительного замысла о человечестве. Сказание о творении мира (шестоднев) восходит к Моисею. В основу этого образного описания легла схема евр недели. Образ этот не следует понимать в буквальном смысле: «Не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные — говорит ап. Петр (2 Петр 3:8) — что у Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет как один день» (Пс 89:5). В шестодневе каждое поколение находит откровение о сотворении мира, соответствующее ступени его культурного и нравственного развития. Современный человек может найти в этом образе символическое изображение длительных периодов становления нашей земли. Священнописатель созерцает реалии этого мира от самой простой до самой сложной и совершенной, исходящими из рук Творца согласно ритму евр недели: шесть дней работы, т.е. сотрудничества с творческой деятельностью Бога, и один день отдыха — умиротворения перед лицом Божиим. Во вступительной фразе шестоднева отвергаются все языческие учения о миротворении, которые говорят либо о двух творцах (дуализм), либо о рождении мира из недр Божества (пантеизм). Мир творится единым Богом из ничего (2 Макк 7:28). Его создание есть тайна божественной любви. “Земля и небо” означают вселенную в целом. Многие толкователи усматривают в слове «небо» указание на духовный (ангельский) мир, созданный одновременно с первоматерией.
Названия, разделения и содержание
Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Luk 10:26 ; ср. Luk 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:
Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Num 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.
Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Gen 1-11) и история праотцев народа Божия (Gen 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Gen 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Gen 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Gen 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Gen 50:20).
Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Exo 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Exo 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Exo 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.
Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Lev 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Lev 8-10); предписания о чистом и нечистом (Lev 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Lev 16); «Закон святости» (Lev 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Lev 26). В гл. Lev 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.
В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Num 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Num 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Num 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Num 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Num 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Num 31-32). В гл. Num 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.
Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Deu 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Deu 5-11 ; Deu 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Deu 1-4); за ней следует третья речь (Deu 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Deu 31-34).
Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.
Литературная композиция
Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Joh 1:45 ; Joh 5:45-47 ; Rom 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.
Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.
Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.
Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.
Повествования и история
От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.
Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.
Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.
Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Exo 1:11 : народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.
Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.
Законодательство
В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.
Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.
Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Exo 20:2-17 и Deu 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.
Элогистский кодекс Союза-Завета (Exo 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.
Ягвистский кодекс возобновления Завета (Exo 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Lev 11), или предписания о чистоте (Lev 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Lev 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Lev 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).
Религиозный смысл
Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.
Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?
Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.
Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.
Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Jos 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Deu 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Gal 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.
Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Mat 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.
Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире . Славянский текст дает перевод последних двух слов: «Господь виде». Большинство комментаторов видят здесь повторение того, что было сказано Авраамом раньше (8 ст. ) и что теперь так точно оправдалось. Переименовывать же ту или другую местность в память известного, совершившегося на ней события, было в широком распространении в библейской древности (16:14 ; 20:22 ; 21:31 и др.). А то обстоятельство, что в совершенно тождественных двух фразах 8 и 14 ст. употребляются различные божественные имена — Элохим и Иегова, дает сильное возражение для борьбы с рационалистической критикой библейского текста. Что касается второй половины 14 ст., то они представляют собой своего рода пословицу, сложившуюся на основании данного факта и употреблявшуюся при аналогичных же случаях, т. е. когда все человеческие средства будут уже исчерпаны и останется только надежда на чудесную божественную помощь, наподобие той, какую явил Бог Аврааму с Исааком в самый последний решительный для них момент.
Наименование книг. Первая священная книга нашей славяно-русской Библии носит наименование «Бытие». Такое ее наименование есть буквальный перевод греческого надписания данной кн. в тексте LXX, указывающего на содержание первой священной книги (в тесном смысле — двух первых глав ее), надписываемой в еврейском ее подлиннике первым словом текста 1-го стиха — תי ִ ש ֵ ר ֽ ב bereschith.
Происхождение и смысл ее наименования. Из сказанного уже ясно, что ключ к разгадке наименования первой книги Библии должно искать в тексте ее подлинника. Обращаясь к последнему, мы видим, что каждая из первых пяти книг Библии, образующих так называемую Тору («кн. закона») или Моисеево Пятикнижие, получили свое название от первого или двух первых ее слов; а так как начальная книга в еврейском подлиннике открывается словами תי ִ ש ֵ ר ֽ ב , то эти именно слова и были поставлены евреями в качестве ее заголовка.
1-я книга (или Бытие) в еврейском тексте называется bereschith («в начале»); 2-я (Исход) — elleh-schemoth («сии имена»); 3-я (Левит) vajigra («и воззвал»); 4-я (Числ) — vajedabber («и сказал»; другое название — bemidbar — «в пустыне», ср. Числ 1:1); 5-я (Второзаконие) — elleh-haddebarim.
Но хотя наименование кн. «Бытия» и имеет случайное происхождение, однако оно удивительным образом совпало с ее существенным содержанием и полно широкого смысла. В 1-й книге Моисея многократно встречается синонимичное слову «Бытие» название totedoth. Под именем תֹוךֽלֹוּת toldoth — «порождения, происхождения, потомства» (от евр. гл. ך ֵ ל ֶ י «рождать») у евреев были известны их родословные таблицы и находящиеся при них историко-биографические записи, из которых впоследствии составлялась и самая их история. Ясные следы существования таких «генеалогических записей», исправленных и объединенных рукой их богодухновенного редактора Моисея, можно находить и в кн. Бытия, где не менее десяти раз мы встречаемся с надписанием ת ֹ וך ֽ ל ֹ ו ּ ת toledoth, а именно «происхождение неба и земли» (Быт 2:4), «родословие Адама» (Быт 5:1), «житие Ноя» (Быт 6:9); «родословие сыновей Ноя» (Быт 10:1) «родословие Сима» (Быт 11:10), «родословие Фарры» (Быт 11:27), «родословие Измаила» (Быт 25:12), «родословие Исаака» Быт 25:19), «родословие Исава» (Быт 36:1), «житие Иакова» (Быт 37:1).
Отсюда очевидно, что первая кн. Библии есть по преимуществу книга родословий, так что ее греческое и славяно-русское название как нельзя лучше знакомят нас с ее внутренней сущностью, давая нам понятие о небе как о первой родословной мира и человека.
Что касается разделения кн. Бытия, то наиболее глубоким и правильным должно признать разделения ее на две далеко неравные части: одна, обнимающая одиннадцать первых ее глав, заключает в себе как бы универсальное введение во всемирную историю, поскольку касается исходных пунктов и начальных моментов первобытной истории всего человечества; другая, простирающаяся на все остальные тридцать девять глав, дает историю уже одного богоизбранного народа еврейского, и то пока еще только в лице его родоначальников — патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа.
Единство и подлинность кн. Бытия доказываются прежде всего из анализа ее содержания. Вникая глубже в содержание этой книги, мы, при всей ее сжатости, не можем не заметить удивительной стройности и последовательности ее повествований, где одно вытекает из другого, где нет никаких действительных несогласий и противоречий, а все стоит в полном гармоническом единстве и целесообразном плане. Основной схемой этого плана служит вышеуказанное нами деление на десять «генеалогий» (toledoth), составляющих главные части книги и объединяющих в себе большее или меньшее количество второстепенных, смотря по важности той или другой генеалогии.
Подлинность кн. Бытия имеет для себя как внутренние, так и внешние основания. К первым, помимо всего вышесказанного о содержании и плане этой священной книги, должно отнести ее язык, носящий следы глубокой древности, и особенно встречающиеся в ней библейские архаизмы. Ко вторым мы относим согласие данных Библии с естественнонаучными и древне-историческими известиями, почерпаемыми из различных внешних научных источников. Во главе всех их мы ставим древнейшие сказания ассиро-вавилонских семитов, известные под именем «халдейского генезиса», дающие богатый и поучительный материал для сравнения с повествованиями библейского генезиса.Подробнее об этом смотри Comely. Introductio in libros V. Т. II, 1881; Арко. Защита Моисеева Пятикнижия. Казань, 1870; Елеонский. Разбор рациональных возражений против подлинности книги Бытия; Вигуру. Введение в Св. Пис. Ветхого Завета. Перев. свящ. Воронцова.
Наконец, важность кн. Бытия понятна сама собою: являясь древнейшей летописью мира и человечества и давая наиболее авторитетное разрешение мировых вопросов о происхождении всего существующего, кн. Бытия полна глубочайшего интереса и имеет величайшее значение в вопросах религии, морали, культа, истории и вообще в интересах истинно человечной жизни.
Пятикнижие
Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (
Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.
Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.
Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.
По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Mat 5:17 ). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.
Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.
Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.
Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Jos 1:7.8 ; Jos 8:31 ; Jos 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Mar 10:5 ; Mat 19:7 ; Luk 24:27 ; Joh 5:45-46 ), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.
Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.Подробнее об этом см. Вигуру . Руководство к чтению и изучению Библии . Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.
Книга Бытие. Глава 22
Духовное состояние Авраама в данную минуту таково, что Господь находит возможным особенно чувствительным образом испытать его сердце. В 20-й главе Авраам, убедившись, что сердце его не вполне было предано Господу, исповедал и осудил застарелый свой грех; в 21-й главе он изгнал из дома свою рабыню и сына ее; теперь душа его была перенесена в самые благоприятные духовные условия; теперь сердцу его предстояло подвергнуться непосредственному испытанию Самого Бога. Есть много видов испытания: испытание, наводимое на нас ухищрениями диавола; испытание, причиняемое нам обстоятельствами внешними; но знаменательнее всего по характеру своему испытание, которому мы подвергаем непосредственно по воле Божией, когда Господь вводит возлюбленное Свое чадо в печь огненную, дабы показать, всю действенность его веры. Бог это делает, ища действительного осуществления веры. Недостаточно говорить: "Господи, Господи", или "Иду, Господи"; сердце должно быть исполнено до глубины, чтобы никакое начало лицемерия и лукавства не могло гнездиться в нем. Бог говорит: "Сын Мой, отдай сердце твое Мне" (Пр. 23,26); не говорит: "Отдай Мне голову, твой ум, твои таланты, твой язык или твои деньги"; нет, но: "Отдай Мне твое сердце." И чтобы удостовериться в искренности нашего ответа на зов любви Своей, Он налагает на нас руку Свою, простирая ее на то, что особенно близко сердцу нашему. Он сказал Аврааму: "Возьми сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (ст. 2). Это значило провести его чрез горнило испытания. Бог "возлюбил истину в сердце" (Пс. 50,8). Нетрудно исповедовать истину устами и умом; но Бог ищет ее в сердце. Обыкновенные доказательства любви не удовлетворяют Бога; Сам Он не удовольствовался заурядным доказательством любви Своей к нам; Он отдал Сына Своего! А мы? Не должны ли и мы гореть желанием дать яркое доказательство любви нашей к Возлюбившему нас, бывших "мертвыми в грехах и преступлениях наших?"
Важно, чтобы мы отдавали себе отчет, что, испытывая нас таким образом, Бог оказывает особое благоволение к нам. Мы и читаем, что "Бог испытал Лота"; нет, Лота испытал Содом. Никогда не дошел Лот до того духовного уровня, при котором Самому Иегове возможно было испытать его: состояние его души было слишком очевидно и без проведения ее чрез горнило божественного искушения. Содом не мог прельстить Авраама; разговор и свидание его с царем Содомским явно свидетельствовали об этом. Бог знал, что Авраам Его любит несравненно больше Содома, но Ему благоугодно было наглядно доказать, что служитель Его любил Его выше всего и был способен без малейшего сопротивления Ему отдать то, что ему было дороже всего на свете. "Возьми сына твоего, единственного твоего, Исаака." Да, Исаака, сына обетования, Исаака, предмет долгого, томительного ожидания; предмет нежной отцовской любви; возьми того, в котором должны быть благословлены все племена земные. Именно этот Исаак должен сделаться жертвой всесожжения Господу! Да, то было истинное испытание веры, дабы "испытанная вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе" (1 Пет. 1,7). Если б Авраам в простоте сердца всецело не полагался на Господа, он не мог бы без малейшего колебания подчиниться повелению, столь глубоко испытавшему его веру. Но Сам Бог был живою и непоколебимою твердынею его сердца; и ради Него Авраам готов был отказаться от всего.
Душа, обретшая в Боге "все источники свои" (Пс. 86,7), без малейшего колебания отрекается от всех "водоемов человеческих" (Иер. 2,13). Отречься от плоти мы можем в той именно вере, в какой мы познали Создателя, и ни на йоту не больше этого: нет работы бесполезнее усилия человека отрешиться от интересов мира видимого иначе, как чрез посредство веры, осуществляющей невидимое. Пока Бог не становится для человека "полнотою, наполняющей все", душа его не может отказаться от своего Исаака. Но когда верою мы можем сказать: "Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах", мы можем к этому прибавить: "Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей" (Пс. 45,1-2).
"Авраам встал рано утром", и т.д. Авраам не медлит, повинуется тотчас же. "Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои" (Пс. 118,60). Вера не вникает в обстоятельства, не размышляет о последствиях; она взирает на Одного Бога, говоря: "Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью" (Гал. 1,15-16). Советуясь с плотью и кровью, мы наносим ущерб нашему свидетельству и служению, потому что плоть и кровь Богу подчиняться не могут. Для нашего собственного счастья и для славы Божией нам должно, с помощью Божией, спешить с раннего утра соблюдать заповеди Божий. Если Слово Божие составляет источник нашей деятельности, из него черпаем мы силу и решимость для всех поступков наших, стоит исчезнуть вдохновению, с ним упадет и энергия наша.
Чтобы жизнь наша сделалась деятельной, последовательной и сознательной, необходимы два условия: иметь Духа Святого силою своею и Священное Писание руководителем своим. Авраам обладал тем и другим: он получил от Бога силу и повеление действовать. Его послушание носило вполне определенный характер; и это очень важно. Мы часто принимаем за преданность делу Божию изменчивые порывы человеческой воли, далеко не подчиненной могущественному действию Слова Божия. Всякая деятельность этого рода обманчива и не имеет никакой цели; дух, руководящий ею, крайне неустойчив. Можно принять за правило, что всякий раз, когда рвение человеческое не соответствует установленным Богом границам, происхождение его сомнительно: если оно не достигает этих границ, оно не совершенно; если же переходит их, оно заблуждается. Существует, правда, из ряда вон выходящие пути и действия Духа Божия; проявляющаяся в них державная сила Его не знает никаких границ; но сила Божественного действия так безмерно велика, что она очевидна для всякого духовно настроенного человека. Те исключительные случаи нимало не противоречат истине, что верность и разумное рвение основаны всегда на Божественном начале и руководствуются им. Решимость принести в жертву сына может показаться удивительным подвигом; но не следует забывать, что она лишь потому имела цену в глазах Божиих, что ее основанием было повеление Божие.
Преданность Богу тесно связана с поклонением Ему. "Я и сын пойдем туда и поклонимся" (ст. 5). Истинно преданный Богу служитель смотрит не на свое служение, как бы значительно оно ни было, а на своего Господина; и это вызывает в нем чувство благоговейного поклонения Господу. Если я душою предан своему господину по плоти, я с одинаковой готовностью вычищу его сапоги и исполню обязанности его кучера; но если не его, а моя личность будет на первом плане, второе занятие я предпочту первому. Так бывает и в деле нашего служения Божественному Учителю: если все мои мысли устремлены на Него Одного, мне будет безразлично, придется ли мне заниматься делами Церкви, или деланием палаток. То же следует заметить и относительно служения ангелов. Ангелу совершенно безразлично быть посланным уничтожить целое войско неприятеля, или же оградить от опасности одно лишь чадо Божие; мысль его всецело занята его Господином. Если б, как было кем-то справедливо замечено, с неба, положим, было послано на землю одновременно два ангела, один для управления целым государством, а другой - мести улицы города, им и в ум не пришло бы оспаривать друг у друга порученное им дело. И если это применимо к Ангелам, не должно ли быть также и с нами? Служение и благоговейное поклонение Богу должны идти рука об руку; также и работа рук наших должна всегда являться благоуханием заветных желаний нашего сердца. Другими словами, ко всякому делу нам следует приступить, сообразуясь с духом слов: "Я и сын пойдем туда и поклонимся." Это предохранило бы нас от нашей склонности к работе машинальной, к работе из любви, к работе самой, когда мы заняты своим трудом, а не Господом. Все должно истекать из беззаветной веры в Бога и послушания слову Его.
"Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного (Евр. 11,17). Насколько мы ходим верою, настолько можем мы и начать совершать и доканчивать какое-либо дело во славу Божию. Авраам не только пустился в путь с целью принести Богу в жертву своего сына, но он и дошел до самого места, указанного ему Господом. "И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож; и пошли оба вместе." И далее мы читаем: "И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего, Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего" (ст. 6,10). То было "дело веры", "труд любви" в высшем смысле этого слова; действительное дело, действительный, а не показной труд. Авраам не приближался к Богу устами только, тогда как сердце далеко отстояло от Бога; он не говорил: "Иду, Господи!" чтоб затем не последовать зову Божию. То была полная действенность, действенность, благоугодная Богу. Нетрудно хвалиться своею преданностью, когда не приходится ее доказывать на деле; легко говорить: "Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь... хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя" (Матф. 26,33-35). Весь вопрос в том, чтоб пребыть твердым до конца, превозмочь искушение. Настала минута испытания, и Петр не устоял в вере. Вера никогда не разглашает наперед того, что она готовится совершить; она совершает, что может, силою Господа. Жалок человек, исполненный гордости и самомнения: ничтожны как самые эти чувства, так и основания их; истинная вера сказывается лишь в минуту ее испытания; до этой же минуты она покоится вдали от взоров людских.
Именно эта святая, деятельная вера и служит к прославлению Бога; все ее дела исходят от Бога; все они совершаются ради Него. Из всех поступков жизни Авраамовой ни один не послужил к славе Божией в такой мере, как его поведение на горе Мориа. Там Авраам засвидетельствовал, что воистину "все его источники" были в Боге, что там он имел их не только до, но и после рождения Исаака. Опираться на благословения Божий и опираться на Самого Бога - не одно и то же. Полагаться на Бога, имея пред собою источники, насыщенные благословениями Божьими - нечто совсем другое, чем полагаться на Него, когда источники эти иссыхают. Авраам засвидетельствовал превосходство своей веры, доказав, что он умел рассчитывать на Бога и Его обетование произвести бесчисленное потомство не только пока он видел пред собою в цветущем здоровье и полного сил Исаака, но и тогда, когда Исаак должен был обратиться в жертву, обреченную на сожжение. Блаженная уверенность! Уверенность беззаветная, не опирающаяся частью на Творца, частью - на творение Его, но уверенность, покоящаяся на прочном основании, на Самом Боге. Он принял в соображение, что мог Бог совершить, и не думал, что Исаак мог что бы то ни было совершить сам. Без Бога Исаак был ничто; Бог и без Исаака был всем. Вот принцип высшей важности, испытание, могущее исследовать все глубины нашего сердца. Когда видимые источники, несущие благословения Божий, иссыхают, уменьшается ли сообразно с этим и доверие мое к Богу? Или же я живу в столь непосредственной близости к самому исходному пункту живого источника, что исчезновение всех ручьев человеческих нимало не нарушит моего неизменного благоговения к Богу? Верю ли я со всей доверчивой простотой, что Бог силен сделать все; решусь ли в силу этого в том или другом смысле "простереть руку свою и взять нож, чтоб заколоть своего сына"? Авраам оказался способным на это, потому что он взирал на Бога воскресения. "Он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить" (Евр. 11,17-19).
Одним словом, он имел дело с Богом, и ему этого было достаточно. Бог не допустил его нанести смертный удар сыну. Авраам дошел до последних границ доверия: Бог любви не мог допустить его перейти эту границу; Он пощадил отцовское сердце от терзаний, которых не избежал Сам, от роковой необходимости поразить смертью Своего собственного Сына. Сам же Он дошел до конца; да будет благословенно имя Его! Он "не пощадил Сына Своего и предал Его за всех нас." "Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению" (Рим. 8,32. Ис. 53,10). Когда на Голгофе Он приносил в жертву Единородного Сына Своего, никакой голос с неба не остановил этого. Нет, жертва была принесена, запечатлев собою наш вечный мир.
Тем не менее преданность Авраама Богу была вполне доказана и достойно оценена. "Ибо теперь, - говорит Бог, - Я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего единственного твоего, для Меня" (ст. 12). Обратите внимание на слова: "Теперь Я знаю". До этого времени вера еще не была засвидетельствована; вера существовала, и Бог это знал, но важно то, что Бог поставил наличность веры Авраама в зависимость от осязательного доказательства, которым Авраам лично засвидетельствовал ее пред жертвенником на горе Мориа. Вера всегда проявляется в делах своих, а страх Божий - в плодах, из него истекающих. "Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего" (Иак. 2,21). Кто мог бы сомневаться в его вере? Отнимите от Авраама его веру, и на горе Мориа пред вами предстанет убийца или же безумец. Примите в расчет его веру, и в нем вы увидите верного и послушного служителя Божия, человека, боящегося Бога и оправданного верою своею. Но вера нуждается в доказательствах: "Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?" (Иак. 2,14). Исповедание веры без проявления ее могущества и ее плодов не удовлетворяет ни Бога, ни людей. Бог, ищущий искреннюю веру, ценит ее всюду, где ее открывает; то же относится и к людям; они могут понять лишь живое, ясное выражение веры, проявляющееся в ее делах. Мы окружены атмосферой показной религии; устами исповедуют веру почти все; но сама истинная вера все еще остается редкой драгоценностью; мы говорим о вере, дающей человеку решимость, покинув берег настоящих наших обстоятельств, идти бесстрашно навстречу грозным волнам и противным ветрам, чтобы не только помериться с ними силою, но преодолеть их даже и тогда, когда Учитель как бы спит, когда лодка покрывается волнами.
Не лишним будет вставить здесь также несколько слов о чудной гармонии, существующей между учениями апостолов Иакова и Павла относительно оправдания. Рассудительный и духовно настроенный читатель, считающий все Священное Писание богодухновенным, прекрасно знает, что в вопросе этом мы имеем дело не с апостолом Иаковом, не с Павлом, но с Духом Святым. В милосердии Своем Дух Святой обратил каждого из этих заслуживших благоволение в глазах Божиих людей в Свое орудие, в перо для передачи Своих мыслей; так для выражения своих мыслей мы вольны выбрать перо гусиное или же стальное; в этом случае нелепо было бы искать противоречия в написанном двумя разными перьями: ими писало одно и то же лицо. Невозможно открыть противоречие в словах двух людей, вдохновленных Богом, как невозможны встреча и столкновение двух небесных тел, из которых каждое вращается по своей, Богом предначертанной, орбите.
И действительно, как и следует ожидать, самая полезная, самая совершенная гармония существует между двумя этими апостолами в вопросе касательно оправдания; каждый из них уравновешивает, поясняет другого. Апостол Павел дает нам внутренний, скрытый принцип вопроса; Иаков - описание внешнего развития этого принципа. Первый обращает наше внимание на сокровенную жизнь души; последний - на ее внешнее проявление; первый рассматривает человека в связи с Богом; последний разбирает отношения человека к ближним его. И то и другое одинаково необходимо для нас, потому что наличность внутреннего принципа требует проведения его внешним образом в жизнь; но и жизнь, не воплощающая в себе ее руководящего внутреннего принципа, теряет все свое значение, всю свою силу. Авраам оправдался пред Богом тогда, когда он поверил Богу, и Авраам в то же время оправдался, когда возложил на жертвенник Исаака, сына своего. В первом случае нам открывается скрытое миру положение Авраама пред Богом; во втором мы видим веру Авраама открыто признанной небом и землею. Важно установить эту разницу. Когда он "верил Богу", никакой голос с неба не засвидетельствовал этого, хотя Бог уже видел веру Авраама и вменил эту веру в праведность ему; когда же Авраам "возложил на жертвенник Исаака, сына своего", Бог мог ему сказать: "Теперь Я знаю," - и весь мир получил могущественное неоспоримое доказательство того, что Авраам оправдался перед Богом. Так всегда будет и с нами. Где существует наличность веры, там не замедлит проявиться и внешнее ее действие, значение которого всецело зависит от его отношения к вере. Отделите на минуту дело Авраама, изображенное нам апостолом Иаковом, от веры Авраама, нам описанной апостолом Павлом, и спросите себя, какие данные существовали бы при данных условиях для оправдания Авраама? Ровно никаких. Вся цена, вся суть подвига Авраама истекала из того факта, что он представлял собою внешнее проявление той веры, которая уже раньше оправдала Авраама в глазах Божиих.
Такова гармония, существующая между учениями апостолов Иакова и Павла, или таково, лучше сказать, единство голоса Духа Святого, чрез посредство которого из апостолов ни раздался бы этот голос.
Возвратимся теперь к рассматриваемой нами главе. Поучительно проследить, как испытание веры привело Авраама к более глубокому познанию характера Божия. Когда нам посылается испытание от Бога, мы непременно получим новые откровения относительно характера Божия и этим путем постигнем всю ценность испытания.
Не простри Авраам руки своей, чтоб заколоть сына своего, никогда бы не удалось ему понять все величие преизобильного богатства Божия, связанное с именем, которое Авраам дал при этом Богу: "Иегова - ире" или "Господь усмотрит". Только на деле, проходя через испытание, познаем мы, что такое Бог. Без испытаний мы остаемся всегда теоретиками; но Бог этим не довольствуется; Он хочет, чтоб мы погружались в глубины жизни, заключенные в Нем Самом, в непосредственном общении с Ним. С какими новыми взглядами, с какими непохожими на прежние чувствами должен был Авраам возвращаться с горы Мориа в Вирсавию. Как изменились мысли его относительно Бога, относительно Исаака, относительно решительно всего!
"Поистине можно сказать: "Блажен человек, который переносит искушение" (Иак. 1,12). Испытание - это почесть, оказываемая Самим Господом, и трудно было бы оценить все блаженство, истекающее из Им сделанного опыта. Когда люди вынуждены бывают говорить словами Псалма 106 (см. ст. 27): "Вся мудрость их исчезает", тогда именно открывают они, что такое Бог.
Да даст нам Господь силу достойно переносить искушения, дабы дела Его явились, и имя Его прославилось в нас!
Прежде чем кончить эту главу, заметим еще, с каким благоволением отмечает Иегова дело Авраама, к совершению которого он уже был раньше готов. "Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса Моего" (ст. 16-18). Это удивительно согласуется с тем, что Дух Святой говорит о деле Авраама в Евр. 11 и Иак. 2. В этих местах Писания говорится, что Авраам на самом деле принес своего сына в жертву.
Главный смысл всех этих свидетельств заключается в том, что Авраам доказал, что он готов был пожертвовать всем, кроме Бога; это-то было одновременно и вменено ему в праведность, и послужило доказательством этой праведности. Вера может обойтись без всего, только не без Бога; она сознает вполне ясно, что силы Божией хватит на все. Вот почему Авраам мог достойным образом оценить слова: "Мною клянусь. "Да, чудное слово "Мною" заключало для человека веры все. "Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою... Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву" (Евр. 6,13,16,17). Слово и клятва Божий должны положить конец всем сомнениям, всем проявлениям воли человеческой, сделаться для души непоколебимым якорем среди всех треволнений, всей суеты мирской.
Нам всячески приходится осуждать себя за то, что обещания Божий столь слабо действуют на наше сердце. Обетование дано; мы говорим, что верим ему; но оно, - увы! - не составляет для нас непоколебимой, осязательной действительности, не представляет для нас того, чем оно должно для нас в сущности быть; потому и не извлекаем мы из него "твердого упования", произвести в нас которое ему дано. Как мало готовы мы силою веры принести в жертву нашего Исаака! Будем же молить Бога даровать нам более глубокое познание блаженной жизни в Нем, чтобы мы могли лучше понять всю важность слова апостола Иоанна: "Победа, победившая мир, наша вера." Только верою можем мы победить мир. Неверие ставит нас в зависимость от настоящего, другими словами, дает миру власть побеждать нас; душа же, которой Духом Святым открыто, что Бог заключает для нее все, становится вполне независимой от всех уз земных.
Постараемся же, дорогой читатель, на опыте испытать все это, чтобы обрести мир и радость в Боге, да прославится Он в нас!
© :: "Христианские страницы"
Бог дает повеление Аврааму принести в жертву Исаака.
Быт.22:1. И было, после сих происшествий
Это обычное, довольно неопределенное библейское указание – не столько на самое время, сколько на последовательность событий. Из последующего контекста (Быт. 22:6) во всяком случае видно, что жертвоприношение Исаака происходило тогда, когда он уже успел подрасти настолько, что был в состоянии нести потребное количество дров для костра, следовательно, имел не менее 12–15 лет от роду.
Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
Митрополит Филарет различает два рода искушений: искушение во зле, или возбуждение к действованию злых склонностей, кроющихся в человеке, и искушение в добре, или направление, даваемое действующему в нем началу добра к открытой брани против зла или против препятствий в добре, для достижения победы и славы; первое – не от Бога, но есть следствие оставления Богом (2Пар. 32:31); второе – от Бога, и, в меру духовных сил, посылается как благодать тем, которые достойны принять «и благодать на благодать» (Ин. 1:16). «Не для того искушал Бог Авраама, – говорит еще блаженный Феодорит, – чтобы самому узнать, чего не знал; но чтобы научить незнающих, сколько справедливо возлюбил патриарха». Подобный взгляд на искушение, как на проявление божественной любви и на повод к развитию и укреплению добродетели, проводится и во многих других местах Библии (Исх. 16:4; Втор. 8:2, 13:3; Пс. 25:2; Иак. 1:12; 1Пет. 1:7; 1Кор. 10 и др.).
Быт.22:2.: Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака;
Исаак называется «единственным» сыном Авраама, потому что он единственный сын от Сарры, законной жены Авраама, и еще больше потому, что единственно на нем, как сыне обетования, покоились все божественные благословения о будущей славной судьбе потомства Авраама. И вот этой-то единственной опоре всех заветных дум престарелого патриарха теперь и грозит жертвенное заклание!
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
Слово «Мориа» по переводу с еврейского означает: «усмотрение Иеговы », и можно думать, что, давая Аврааму повеление идти согласно Его божественному внушению, Господь не указывал ему какой-либо определенной местности, уже в то время носившей название «Мориа», а просто повелел ему идти в ту землю, куда Он поведет его, другими словами – в землю божественного усмотрения. Такой страной, как оказалось впоследствии, послужила одна из гор, лежавшая от Вирсавии на расстоянии трехдневного пути (Быт. 22:4) и получившая, в память этого события, название горы Мориа. По свидетельству кн. Паралипоменон, позднее на этой самой горе был воздвигнут храм Соломона (2Пар. 3:1).
Авраам дает сильнейшее доказательство своей глубокой веры и полного послушания .
Быт.22:3. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о которой сказал ему Бог.
Тяжелую ночь провел патриарх Авраам, получивши откровение о жертвоприношении своего единственного, возлюбленного сына! Но сила веры и послушание Богу восторжествовали над всеми прочими чувствами Авраама: его, как объясняет Апостол Павел, озарила мысль, что Бог, чудесно даровавший Исааку жизнь от престарелых родителей, «силен и из мертвых его воздвигнуть» (Рим. 4:17; Евр. 11:19). И вот лишь только забрезжило утро, как Авраам уже спешил исполнить божественную волю!
Быт.22:5. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
В справедливом опасении за то, что слуги Авраама, не привыкшие к человеческим жертвам, помешают ему исполнить божественное повеление, Авраам оставляет их у подножия горы и обещает вскоре вместе с сыном возвратиться к ним. В этом обещании нельзя видеть обмана, хотя бы допущенного и с благой целью, а следует понимать их, как доказательство этой веры Авраама, что Бог не допустит погибели Исаака, а снова возвратит его к жизни.
Быт.22:6. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего;
Любопытная подробность, еще более усиливающая прообразовательное сходство жертвоприношения Исаака с великой Голгофской жертвой, идя на которую Господь наш Иисус Христос сам должен был понести Свой крест (Ин. 19:17).
Быт.22:7-8. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли: далее оба вместе.
Весь этот диалог отца с сыном исполнен глубокой преданности Богу. Скрывая от Исаака, что именно он-то и намечен служить жертвой, Авраам невольно пророчествует, так как указывает, что жертвенного агнца Бог изберет Себе сам, что впоследствии, действительно, и оправдалось (Быт. 22:13). В самой речи Авраама об агнце заключается прообразовательное указание на великого Агнца, закланного от сложения мира, т. е. на Господа Иисуса Христа, принесшего Себя в искупительную жертву за всех нас.
Быт.22:9. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова
Этот жертвенник, по всей вероятности, представлял небольшую груду камней, набранных там же, наверху горы.
и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
Из всех подробностей данного повествования ясно видно, что Исаак совершенно добровольно и беспрекословно подчинился божественному повелению. Хотя он и был уже в таком возрасте, когда мог оказать сопротивление своему престарелому отцу, но оказывает ему самое трогательное повиновение: послушание сына здесь равняется вере отца и оба они проявляют великое геройство духа. Если же Авраам все же, как мы видим, находит нужным предварительно связать Исаака, то он делает это или в предупреждение каких-либо невольных его движений, при виде занесенного ножа, или, что еще вероятнее, в силу общего жертвенного обычая.
Ему является Ангел и останавливает его руку.
Быт.22:10-11. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
В тот самый момент, когда Авраам уже занес было свою руку для заклания сына, он внезапно был остановлен таинственным голосом с неба, шедшим от лица Ангела Господнего, Который уже являлся ему неоднократно и раньше (Быт. 18:10) и в Котором вероятнее всего должно видеть самого Господа Бога, как это подтверждается и данным контекстом речи (Быт. 22:12, 15, 16, 17-18).
Быт.22:12. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога
Выражение человекообразное, – передающее собою ту мысль, что теперь Авраам дал самое блестящее доказательство своей глубокой веры и своего полного послушания, т. е. достиг той высоты духовно-нравственного совершенства, после которой становится уже психологически невозможной в нем какая-либо перемена к худшему.
и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
Выражение, почти буквально повторенное Апостолом Павлом в отношении Бога Отца, принесшего в жертву за грех людей Своего единородного Сына (Рим. 8:32).
Быт.22:13. И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
По особому божественному произволению случилось так, что близ места жертвы оказался овен, запутавшийся своими рогами в чаще кустарника какой-то горной породы, которую наш славянский текст называет «савек»; видя в этом неожиданном совпадении особое божественное указание, Авраам и приносит этого овна в жертву, вместо своего сына Исаака.
Место жертвоприношения получает наименование Иегова-ире.
Быт.22:14. И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему: и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
Славянский текст дает перевод последних двух слов: «Господь виде». Большинство комментаторов видят здесь повторение того, что было сказано Авраамом раньше (8 ст. «Бог узрит себе овча во всесожжение» в славянском тексте) и что теперь так точно оправдалось. Переименовывать же ту или другую местность в память известного, совершившегося на ней события, было в широком распространении в библейской древности (Быт. 16:13-14, 21 и др.). А то обстоятельство, что в еврейском тексте в совершенно тождественных двух фразах 8 и 14 ст. употребляются различные слова для обозначения Господа, Элогим и Иегова, дает сильное возражение для борьбы с рационалистической критикой библейского текста. Что касается второй половины 14 ст., то они представляют собой своего рода пословицу, сложившуюся на основании данного факта и употреблявшуюся при аналогичных же случаях, т. е. когда все человеческие средства будут уже исчерпаны и останется только надежда на чудесную божественную помощь, наподобие той, какую явил Бог Аврааму с Исааком в самый последний решительный для них момент.
Авраам получает божественное благословение.
Быт.22:15-16. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
Лучшее объяснение этих слов давно в послании Апостола Павла к Евреям, где апостол обстоятельно доказывает, что эта божественная клятва есть человекообразное выражение мысли о безусловной непреложности божественных обетовании (Евр 6.16-18). Примеры подобных клятв можно находить и во многих др. местах Библии (Быт. 24:7, 26:3, 50:24; Исх. 13:5, 11, 32:13; Ис. 45:23; Иер. 44:26; Ам. 4:2; Евр. 6 и др.).
Быт.22:17-18. то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
Это заключительное и последнее в жизни Авраама божественное обетование отличается особенной торжественностью и силой. Подобно тому, как Авраам готовностью принести в жертву Исаака обнаружил высшую степень послушания и преданности Богу, и Господь в награду за это дает ему доказательства Своего высшего благоволения, подтверждая и усугубляя ранее данные ему обетования о многочисленности и славе его потомства. При этом в слове 18 ст. об единственном и исключительным семени, через которое имеют благословиться все народы земли большинство толкователей, вслед за Апостолом Павлом, видят указание на великое Семя жены, имеющее стереть главу змия, т. е. на Христа, Сына Божия (Гал. 3:16).
Исчисление родов от Нахора до Ревекки.
Быт.22:20. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов:
Цель этого указания та, чтобы показать происхождение Ревекки, будущей жены Исаака и, следовательно матери избранного потомства (Быт. 24:15).
Быт.22:21-24. Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова,
Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила;
от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову;
и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.
Когда, в силу божественного повеления, Авраам некогда двинулся из Ура Халдейского по пути в Харран и вообще в Сирию и Палестину, то он порвал все связи и отношения с оставшимся у него на родине родством. И вот вдруг, почти уже под конец своей жизни, он получает неожиданное известие о семье своего брата Нахора, разросшейся до 12 сынов (8 от законной жены и 4 от наложницы).
22:1,2
И было, после
сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он
сказал: вот я.
2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
Долгожданный и любимый сын Авраама вырастает и Бог вдруг требует его принести в жертву - момент в Библии, который многим её читателям кажется невероятным и даже диким.
Однако внимательное исследование слова Бога даёт понять, что сама по себе идея принесения в жертву детей - Владыке даже на сердце не приходила -Иер.7:31. Зачем же тогда Иегова дал повеление Аврааму принести в жертву своего единородного сына от Сарры - Евр.11:17- и что это означало? Узнаем ниже по тексту.
22:3,4
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из
отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и
встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
4 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
Потрясающая реакция Авраама: ни одного вопроса не задал, ни смутился, ни возмутился, ни опечалился - молча собрался рано на рассвете и пошёл исполнять повеление Бога своего.
И Сарре не доложился, даже попрощаться ей с сыном не дал - вообще ничего и никому не сказал. И это было мудро - не сообщать близким такую суровую правду и совет по этому поводу с семьёй держать, как иногда поступают люди, спеша переложить своё бремя на плечи ближних, неправильно понимая принцип быть честным и говорить правду.
Авраам это бремя в одиночку должен был нести, знал, что время -
молчать, иначе исполнить требование Бога по принесению в жертву сына - ему бы помешали.
Двое суток шёл с сыном своим, зная, что ведёт его на смерть. Силён был Авраам в абсолютном послушании и доверии Богу: раз так сказал Бог, значит – так надо.
Не стал Авраам сомневаться в требованиях Бога и решать по-своему в погоне за более хорошим и правильным результатом по собственному разумению. Например, он мог бы подумать: «что- то тут не то, но Бог добр и поймёт меня, если я не стану приносить сына в жертву, ведь это единственный мой потомок». Доверие Богу - основное условие, делающее человека сыном Его.
Думал ли Авраам, что Всевышний вдруг изменился, стал жестоким и беспощадным? Нет. Он думал о том, что если Богу это нужно - значит, это Ему нужно не просто так. Но если Бог обещал потомство от Исаака - значит, сможет Исаака воскресить. Поэтому сопровождавшим их с Исааком слугам Авраам сказал:
22:5
И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и
сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
Авраам не обманывал своих спутников:
он был уверен, что вернётся обратно с Исааком (Евр.11:19)
22:
6
И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына
своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
В выдержке с самообладанием - также силён был Авраам: до последнего ничего никому не говорил, и сына послушного воспитал,
ведь Исаак также безропотно делал всё, что отец ему велел, не задавая лишних вопросов, не возмущаясь и не давая своих
советов - взвалил орудие убийства для себя на плечи (дрова) и - айда на гору, указанную Богом.
Эта сцена напоминает Христа, несущего орудие казни для себя на Голгофу.
Гора, расположенная в земле Мориа - в окрестностях древнего Иерусалима - позже стала месторасположением израильского храма (2 Пар. 3,1).
22:7,8
И начал Исаак
говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот
я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для
всесожжения?
8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И
шли [далее] оба вместе.
По ходу всё же забеспокоился Исаак, где же то, что для всесожжения предназначено? Ведь если есть дрова, огонь и нож, должен быть и ягнёнок хотя бы, Исаак удивился, что его не было, но доверился отцу, продолжая свой путь к жертвоприношению. Если отец спокоен и знает, что делает, значит - и Исаак может быть спокоен. Настоящий сын своего
отца.
Можно себе попытаться представить, что чувствовал Авраам, отвечая сыну, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Хотя не факт, что мы будем правы, анализируя чувства этого «железного» человека.
22:9
И
пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам
жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его
на жертвенник поверх дров.
Эту сцену вообще невозможно себе представить без слёз: Аврааму нужно было связать сына своего и уложить на костёр. А сыну нужно было покорно дать себя связать и лечь на костёр в ожидании смерти от руки собственного отца. И один и другой - достойны восхищения в исполнительности воли того, кто имеет полномочия отдавать распоряжения: Авраам - в абсолютном послушании Богу, Исаак - в абсолютном послушании отцу. Легко ли им было подчиняться? Легко ли жертвовать самым дорогим, что
у каждого из них было?
Можно вспоминать этот эпизод, когда возникает искушение не подчиниться Богу в каких-то вопросах и проверять себя, являемся ли мы - детьми Авраама по вере? Ведь большей жертвы в вопросах подчинения Богу, чем согласились отдать Авраам с Исааком - и за всю нашу жизнь у нас вряд ли потребуется. И если они подчинились в этом, то, глядя на них, легче будет подчиняться Богу и в меньшем.
22:10,11
И
простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам!
Авраам! Он сказал: вот я.
Помним, что Бог всё время наблюдает за действиями этих двоих. И помним, что мы выясняем пока что - ЗАЧЕМ Богу понадобилось испытывать веру Авраама таким необычным и жестоким образом (по рассуждению человеческому говорим). Итак, Авраам готов заколоть своего сына собственноручно по-прежнему с железными нервами, ни расслабляясь и не сентиментальничая ни минуты. Исаак готов умереть достойно, без нытья и паники в полном доверии отцу своему. Рука с ножом уже занесена над сыном и готова опуститься, то есть, Авраам не создаёт видимость жертвоприношения сына, а приносит его в жертву без шуток. И именно в этот момент - не раньше, когда рука готова опуститься в грудь сына - Бог остановил руку его гласом ангела Своего. Вот здесь - разъяснение ПРИЧИНЫ того, зачем Богу понадобился весь этот спектакль по жертвоприношению, как могут подумать читатели.
22:12
[Ангел] сказал:
не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо
теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня.
Итак, ищем ответ в словах Бога через
ангела:
не поднимай руки твоей на отрока и не делай
над ним ничего, ибо ТЕПЕРЬ Я знаю, что боишься ты Бога и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня
.
То есть, Бог убедился на деле в том, КТО есть Авраам для Него. А Авраам смог познать себя ещё больше в отношениях с Богом: важнее Бога для Авраама не было никого из живущих.
Однако ЗАЧЕМ же понадобилась ТАКАЯ тяжкая проверка?
Бог знал, что в своё время пошлёт на землю Своего единородногоСына - от Иоанна 3:16 - для людей. Он должен был удостовериться в том, что Авраам – достоин почётной миссии произвести потомка от Бога - Семя - по своей родовой линии (3:15), а люди, такие как Авраам, достойны того, чтобы ради их вечного благополучия пожертвовать жизнью Своего
сына.
Если доверие Богу со стороны Авраама - полноеи глубокое, основанное на любви к Нему и беззаветной преданности, то ему будет нетрудно выполнить вернуть Богу то, что он получил от Него (ибо без помощи Божьей у состарившихся Сарры и Авраама не было бы сына).
Авраам стал перед выбором поверить Богу и отдать долгожданного сына Ему или пожалеть сына,
оставив его для себя и потомства. Авраам знал об обещании Бога произвести от него народ
и был уверен
в том, что даже смерть его сына не будет тому препятствием
(Евр.11:17-19). Его
полное
доверие Богу
выдержало испытание.
Пример испытания на верность Богу Авраама – прообраз несравненно более ценной жертвы для людей -Сына Бога - показал, что если на земле есть такие верные и любящие Бога люди, значит, есть для кого посылать и Своего возлюбленного Сына. И если Исаак согласился умереть для Бога по слову земного отца своего, то тем более сын небес - будущий Христос Иисус- согласится умереть для исполнения замысла небесного Отца своего.
22:13,14
И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся
в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во
всесожжение вместо сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне
говорится: на горе Иеговы усмотрится.
Однако, Бог и в самом деле усмотрел для себя жертву всесожжения, которую Авраам с сыном и принесли на этой горе. Потому Авраам назвал гору - горой Иеговы (Иегова-Ире). Это место Писания
открывает читателям имя Бога Авраама, Исаака и Иакова (Израиля).
22:15-18
Авраам ещё раз слышит суть благословения Бога - для него:
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал
сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое
,
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое
городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли
за то, что
ты послушался гласа Моего.
У этого благословения два исполнения - буквальное и духовное.
Поскольку речь идёт о Христе как о семени Авраама, это благословение может
означает, что семя Авраама - Христос - будет умножено как звёзды небесные, то есть, предсказано появление христиан - это во-первых, а во-вторых, во Христе благословятся ВСЕ народы земли в том смысле, что искупление Христово позволит приблизиться к Богу не только обрезанным потомкам Авраама, но и
язычникам, что и происходит с периода заключения Нового Завета.
22:19-24
И возвратился
Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил
Авраам в Вирсавии.
20 После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка
родила Нахору, брату твоему, сынов:
21 Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова,
22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила;
23 от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих родила Милка Нахору,
брату Авраамову;
24 и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама,
Тахаша и Мааху.
После этих событий Авраам возвращается в Вирсавию к колодцу в земле Филистимской и продолжает жить там с семьёй обычной жизнью праведника Божьего. Со временем он узнаёт об увеличении семейства своего брата, в этом семействе родилась и будущая жена Исаака -
Ревека.
Ревекка . Она состоит в родстве с обоими братьями Авраама. Ее отец Вафуил был сыном Милки, дочери Арана и жены Нахора (11,29). Лия и Рахиль следующее поколение: их отец Лаван приходится Ревекке братом (29,10) (Женевская)
Бог не постоянно участвовал в жизни Авраама и его потомков со Своими повелениями, но вмешивался в его жизнь в определённые моменты, когда нужно было привести в исполнение то или иное Своё намерение в отношении будущего искупления человечества посредством жертвы семени Авраамова - Христа.